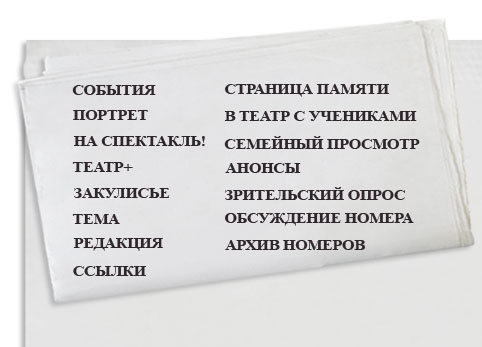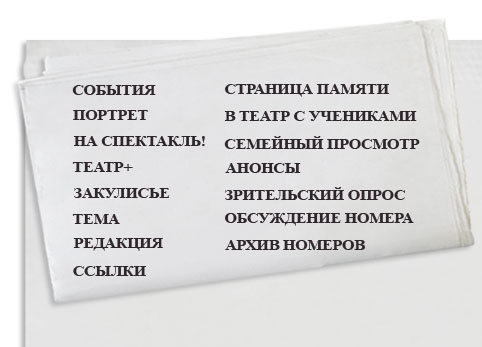На Маленькой сцене РАМТа завершаются репетиции спектакля «Детям до шестнадцати». Его режиссёр – в прошлом актриса РАМТа Яна Лисовская – после 22-летнего расставания с театром приехала из Германии, чтобы поставить здесь пьесу немецкого драматурга Кристо Шагора. На Маленькой сцене РАМТа завершаются репетиции спектакля «Детям до шестнадцати». Его режиссёр – в прошлом актриса РАМТа Яна Лисовская – после 22-летнего расставания с театром приехала из Германии, чтобы поставить здесь пьесу немецкого драматурга Кристо Шагора.
А где, как не на сцене Молодёжного, органичнее всего будет смотреться история о переходе 16-17-летних во взрослую жизнь? Об их чувствах, сомнениях, переживаниях; о том, как, причиняя боль другим, осознаёшь, что этим делаешь больно себе, и извлекаешь из этого жизненный урок, каких ещё предстоит немало… Об этом и многом другом разговор с режиссером в преддверии премьеры.
- Яна, Вы русская актриса, впитавшая русскую школу, но, тем не менее, у Вас уже есть опыт работы в Германии – и актёрский, и режиссёрский, и опыт драматурга. Случилось ли так, что немецкая театральная культура тоже оказала на Вас какое-то влияние, отражающееся, возможно, в спектакле, который Вы сейчас делаете.
- Вы знаете, наверное, произошёл синтез: ведь я жила там и видела немецкий театр. Естественно, я была открыта; я видела немецкую школу с точки зрения формы и того, «как я это рассказываю». И мне кажется, что именно эта тема – как – является проблематичной в сегодняшнем русском театре. Мы умеем изображать жизнь реалистично, натуралистично, достоверно, живо. Но иногда по форме это выглядит старомодно. То, что театральная школа Германии ищет новые формы и очень успешно их ищет – это безусловно. Но если говорить о том, чтó мы делаем, чтó мы рассказываем – по сути, по глубине – то, на мой взгляд, русская школа находится ещё очень-очень высоко над всеми другими школами. Наш подход и способ психоанализа – много интереснее.
- В этом сезоне мы со зрителями обсуждали спектакль «Под давлением 1-3» по Шиммельпфеннингу. Это – «новая драма», что вообще в нашем театре явление достаточно свежее. И мы обсуждали, что всё-таки, несмотря на то, что будь это немецкая или какая-то другая европейская драматургия – то есть совсем другой менталитет – наш русский режиссёр не сможет не вложить психологизма, и мы видели в спектакле и говорили о каких-то вещах, которые Шиммельпфеннинг явно в это не вкладывал. В вашей истории это случится?
- Я надеюсь, что это случится. Те, кто знают пьесу и видели некий сегодняшний результат, подтверждают, что разница между написанным и увиденным колоссальная, то есть совершенно явно, что мы наполнили эту пьесу чем-то другим. И я думаю, что связано это именно с русской психологической школой.
- Когда я читаю «новую драму», у меня возникает ощущение, что она очень скудно написана. Хочется души, характера… У Вас нет такого ощущения, когда Вы берёте современную пьесу?
- Вы знаете, что я не только режиссёр, но и актриса по образованию. И, естественно, читая что-то, я уже начинаю думать, как смогу это сделать, что и как смогу сыграть. Я думаю, именно мой актёрский опыт в данной ситуации мне очень помогает в работе над Шагором.
Хотя мне дико нравятся эти простые диалоги, где ничего не происходит, потому что можно очень много сыграть в паузах. Я не собираюсь ставить параллели, но весь Антон Павлович построен на подтекстах, на втором плане. И самое увлекательное – открывать этот второй план, разгадывать, что происходит с героем на самом деле… Слова – это последняя инстанция. Ими можно обмануть, можно сказать правду. А вот нащупать, понять, почему обманывают и что-то пытаются скрыть, что происходит по-настоящему – это гораздо важнее.
Мы очень привыкли общаясь, выставлять блоки: «Как дела?» – «Ничего». Как это понимать – «ничего»? Это означает всё: «плохо», «чудовищно», «отстань», «пошёл куда подальше», «как скажешь»?.. Мы уже настолько этими «кирпичиками» забаррикадировались, что разобраться, что за этим скрывается – очень интересная вещь. Особенно у молодёжи – у этих людей, которые хотят докопаться до себя, которые совершенно себя не понимают и чувствуют себя, только причиняя боль другим. Я имею в виду моих персонажей.
- Что Вас привело к этим персонажам?
- Я преподаю в театральной школе в Ганновере. И там возникла банальная ситуация: нужно было поставить спектакль на троих студентов – двух девочек и мальчика. Очень сложно найти что-то на трёх персонажей. Я долго искала, просматривала классику. И вдруг мне предложили пьесу, сказав, что «есть такой Кристо Шагор, почитай»… Я почитала пьесу, отбросила и сказала: «Фу, какая гадость». И через полдня я поняла, что мне хочется её ещё раз прочесть, не знаю, почему. Я прочитала её во второй раз, третий и четвёртый и поняла, что она производит на меня огромное впечатление. И предложила студентам эту пьесу. Они поначалу отреагировали абсолютно так же, как и я: «Зачем весь этот ужас, эта чернуха?» Как потом и наши актёры: «Да, эпатажно, сильно, современно, но зачем?»
Я поняла, что на улице, когда мы видим этих детей, мы стараемся от них отвернуться, не попасть в их поле, не очень включаться в их историю. А когда я включилась, то поняла, что мне их ужасно жалко. Мы, выросшие, действительно не отдаём себе отчёта в том, через что должен проходить человек в этой жизни, чтобы добиться таких простых, казалось бы, вещей, как на «да» сказать «да», на «люблю» ответить «люблю», на «не люблю» сказать «не люблю»… Мало того, мы, современные люди, с нашей историей – с Хорватией, со всеми войнами, с Молдавией, Чечнёй – уже настолько загружены информацией, что и детство, и юность у нас уже другие. Они сильно отличаются от тех, что были сто лет назад. И эти дети уже с поломанными душами приходят во взрослую жизнь, со своими представлениями, как нужно бороться, как нужно кусаться, давать сдачи и так далее. Я их безумно полюбила.
- А о чём именно будет этот спектакль, с каким посылом?
- Честно говоря, я бы хотела поставить историю про любовь. В любом качестве, в любом проявлении этого слова – это может быть любовь к другу, к человеку, к мужчине, к женщине, к себе. Это пьеса о любви, о том, как человек открывает для себя, что такое любовь.
- В современной драме сейчас есть такое направление – вербатим, когда на сцену приходит язык, на котором люди разговаривают в обычной жизни. Насколько это, на Ваш взгляд, правильно, насколько можно упрощать сценический язык?
- Дело в том, что я переводила эту пьесу сама. После того, как я поставила её в Театральном институте в Ганновере, она меня не оставляла, и я решила перевести её на русский. И вдруг я поняла, что язык, на котором говорят персонажи, я не знаю совершенно, я с ним не знакома. Я вынуждена была звонить своим приятельницам, чьи дочери более или менее знакомы с таким языком. И самое интересное, что для меня этот язык – который с улицы – является художественным языком. Я его не знаю, я его познавала, постигала и изучала в ходе пьесы. Мало того, точно так же, как в нашем поколении те слова, которые мы привносили в нашу речь, были ужасом для наших родителей, сейчас кажутся безобидными и абсолютно никакими по сравнению с тем, что сегодня приходит в наш язык. Так что к этому нужно относиться по-философски и совершенно спокойно.
Это нормально. Нормально! Это код, за которым прячутся какие-то комплексы, нежелание выделяться, быть старомодным… В этом тоже есть предмет искусства, предмет изучения! Когда я показала Алексею Владимировичу эту пьесу, он тоже сказал: «Какой кошмар! Эти слова, эти слова!..» Но, что интересно, на прогоне спектакля не возникает отталкивающего ощущения, потому что если они живые (а мы к этому и стремимся), то это не режет слух, это естественно – как кроссовки, как спущенные штаны. |